| |
Боевой путь Я начал служить в
июне 41-го года. Но я тогда был не совсем военным. Мы назывались
вспомогательной частью, и до ноября я, будучи шофёром, ездил в
треугольнике Вязьма - Гжатск - Орша. В нашем подразделении были немцы и
русские перебежчики. Они работали грузчиками. Мы возили боеприпасы,
продовольствие. Вообще перебежчики были с обеих сторон и на
протяжении всей войны. К нам перебегали русские солдаты и после Курска. И
наши солдаты к русским перебегали. Помню, под Таганрогом два солдата
стояли в карауле и ушли к русским, а через несколько дней мы услышали их
обращение по радиоустановке с призывом сдаваться. Я думаю, что обычно
перебежчиками были солдаты, которые просто хотели остаться в живых.
Перебегали чаще перед большими боями, когда риск погибнуть в атаке
пересиливал чувство страха перед противником. Мало кто перебегал по
убеждениям и к нам, и от нас. Это была такая попытка выжить в этой
огромной бойне. Надеялись, что после до-просов и проверок тебя отправят
куда-нибудь в тыл, подальше от фронта. А там уж жизнь как-нибудь
образуется.
Потом меня отправили в учебный гарнизон под Магдебург в
унтер-офицерскую школу и после неё весной 42-го года я попал служить в
111-ю пехотную дивизию под Таганрог. Я был небольшим командиром. Большой
военной карьеры не сделал. В русской армии моему званию соответствовало
звание сержанта. Мы сдерживали наступление на Ростов. Потом нас
перекинули на Северный Кавказ, позже я был ранен и после ранения на
самолёте меня перебросили в Севастополь. И там нашу дивизию практически
полностью уничтожили. В 43-м году под Таганрогом я получил ранение. Меня
отправили лечиться в Германию, и через пять месяцев я вернулся обратно в
свою роту. В немецкой армии была традиция - раненых возвращать в своё
подразделение и почти до самого конца войны это было так. Всю войну я
отвоевал в одной дивизии. Думаю, это был один из главных секретов
стойкости немецких частей. Мы в роте жили как одна семья. Все были на
виду друг у друга, все хорошо друг друга знали и могли доверять друг
другу, надеяться друг на друга. Раз в год солдату полагался
отпуск, но после осени 43-го года всё это стало фикцией. И покинуть своё
подразделение можно было только по ранению или в гробу. Убитых
хоронили по-разному. Если было время и возможность, то каждому
полагалась отдельная могила и простой гроб. Но если бои были тяжёлыми и
мы отступали, то закапывали убитых кое-как. В обычных воронках из-под
снарядов, завернув в плащ-накидки или брезент. В такой яме за один раз
хоронили столько человек, сколько погибло в этом бою и могло в неё
поместиться. Ну, а если бежали - то вообще было не до убитых. Наша
дивизия входила в 29-й армейский корпус и вместе с 16-й (кажется!)
моторизованной дивизией составляла армейскую группу «Рекнаге». Все мы
входили в состав группы армий «Южная Украина». Как мы видели причины войны. Немецкая пропаганда В
начале войны главным тезисом пропаганды, которой мы верили, был тезис о
том, что Россия готовилась нарушить договор и напасть на Германию
первой. Но мы просто оказались быстрее. В это многие тогда верили и
гордились, что опередили Сталина. Были специальные газеты фронтовые, в
которых очень много об этом писали. Мы читали их, слушали офицеров и
верили в это. Но потом, когда мы оказались в глубине России и
увидели, что военной победы нет и что мы увязли в этой войне, возникло
разочарование. К тому же мы уже много знали о Красной Армии, было очень
много пленных и мы знали, что русские сами боялись нашего нападения и не
хотели давать повод для войны. Тогда пропаганда стала говорить, что
теперь мы уже не можем отступить, иначе русские на наших плечах ворвутся
в Рейх. И мы должны сражаться здесь, чтобы обеспечить условия для
достойного Германии мира. Многие ждали, что летом 42-го Сталин и Гитлер
заключат мир. Это было наивно, но мы в это верили. Верили, что Сталин
помирится с Гитлером, и они вместе начнут воевать против Англии и США.
Это было наивно, но солдатам хотелось верить. Каких-то жёстких
требований по пропаганде не было. Никто не заставлял читать книги и
брошюры. Я так до сих пор и не прочитал «Майн камф». Но следили за
моральным состоянием строго. Не разрешалось вести «пораженческих
разговоров» и писать «пораженческих писем». За этим следил специальный
«офицер по пропаганде». Они появились в войсках сразу после Сталинграда.
Мы между собой шутили и называли их «комиссарами». Но с каждым месяцем
всё становилось жёстче. Однажды в нашей дивизии расстреляли солдата,
написавшего домой «пораженческое письмо», в котором ругал Гитлера. А уже
после войны я узнал, что за годы войны за такие письма было расстреляно
несколько тысяч солдат и офицеров! Одного нашего офицера разжаловали в
рядовые за «пораженческие разговоры». Особенно боялись членов НСДАП. Их
считали стукачами, потому что они были очень фанатично настроены и
всегда могли подать на тебя рапорт по команде. Их было не очень много,
но им почти всегда не доверяли. Отношение к местному населению, к
русским, белорусам, было сдержанное и недоверчивое, но без ненависти.
Нам говорили, что мы должны разгромить Сталина, что наш враг это
большевизм. Но в общем отношение к местному населению было бы правильным
назвать «колониальным». Мы на них смотрели в 41-м, как на будущую
рабочую силу, а на захваченные районы, как на территории, которые станут
нашими колониями. К украинцам относились лучше, потому что
украинцы встретили нас очень радушно. Почти как освободителей.
Украинские девушки легко заводили романы с немцами. В Белоруссии и
России это было редкостью. На обычном человеческом уровне были и
контакты. На Северном Кавказе я дружил с азербайджанцами, которые
служили у нас вспомогательными добровольцами (хиви). Кроме них в дивизии
служили черкесы и грузины. Они часто готовили шашлыки и другие блюда
кавказской кухни. Я до сих пор эту кухню очень люблю. Сначала их брали
мало. Но после Сталинграда их с каждым годом становилось всё больше. И к
44-му году они были отдельным большим вспомогательным подразделением в
полку, но командовал ими немецкий офицер. Мы за глаза их звали «Шварце» -
чёрные. Нам объясняли, что относиться к ним надо, как боевым
товарищам, что это наши помощники. Но определённое недоверие к ним,
конечно, сохранялось. Их использовали только как обеспечивающих солдат.
Они были вооружены и экипированы хуже. Иногда я общался и с местными людьми. Ходил к некоторым в гости. Обычно к тем, кто сотрудничал с нами или работал у нас. Партизан
я не видел. Много слышал о них, но там, где я служил, их не было. На
Смоленщине до ноября 41-го партизан почти не было. А на Северном Кавказе
я вообще о них не слышал. Там степи - места для партизан гиблые. Мы от
них не страдали. К концу войны отношение к местному населению
стало безразличным. Его словно бы не было. Мы его не замечали. Нам было
не до них. Мы приходили, занимали позицию. В лучшем случае командир мог
сказать местным жителям, чтобы они убирались подальше, потому что здесь
будет бой. Нам было уже не до них. Мы знали, что отступаем. Что всё это
уже не наше. Никто о них не думал... Об оружии Главным
оружием роты были пулемёты. Их в роте было 4 штуки.* Это было очень
мощное и скорострельное оружие. Нас они очень выручали. Основным оружием
пехотинца был карабин. Его уважали больше, чем автомат. Его называли
«невеста солдата». Он был дальнобойным и хорошо пробивал защиту. Автомат
был хорош только в ближнем бою. В роте было примерно 15-20 автоматов.
Мы старались добыть русский автомат ППШ. Его называли «маленький
пулемёт». В диске было, кажется, 72 патрона, и при хорошем уходе это
было очень грозное оружие. Ещё были гранаты и маленькие миномёты. Ещё
были снайперские винтовки. Но не везде. Мне под Севастополем выдали
снайперскую русскую винтовку Симонова. Это было очень точное и мощное
оружие. Вообще русское оружие ценилось за простоту и надёжность. Но оно
было очень плохо защищено от коррозии и ржавчины. Наше оружие было лучше
обработано. Однозначно русская артиллерия намного превосходила
немецкую. Русские части всегда имели хорошее артиллерийское прикрытие.
Все русские атаки шли под мощным артиллерийским огнём. Русские очень
умело маневрировали огнём, умели его мастерски сосредоточивать. Отлично
маскировали артиллерию. Танкисты часто жаловались, что русскую пушку
увидишь только тогда, когда она уже по тебе выстрелила. Вообще, надо
было раз побывать под русским артобстрелом, чтобы понять, что такое
русская артиллерия. Конечно, очень мощным оружием был «шталин орган» -
реактивные установки. Особенно, когда русские использовали снаряды с
зажигательной смесью. Они выжигали до пепла целые гектары. О
русских танках. Нам много говорили о Т-34. Что это очень мощный и хорошо
вооружённый танк. Я впервые увидел Т-34 под Таганрогом. Двух моих
товарищей назначили в передовой дозорный окоп. Сначала назначили меня с
одним из них, но его друг попросился вместо меня пойти с ним. Командир
разрешил. А днём перед нашими позициями вышло два русских танка Т-34.
Сначала они обстреливали нас из пушек, а потом, видимо, заметив
передовой окоп, пошли на него, и там один танк просто несколько раз
развернулся на нём и закопал дозорных заживо. Потом танки уехали. Мне
повезло, что русские танки я почти не встречал. На нашем участке фронта
их было мало. А вообще у нас, пехотинцев, всегда была танкобоязнь перед
русскими танками. Это понятно. Ведь мы перед бронированными чудовищами
были почти всегда безоружны. И если не было артиллерии сзади, то танки
делали с нами, что хотели. О штурмовиках. Мы их называли «Русише
штука». В начале войны мы их видели мало. Но уже к 43-му году они стали
сильно нам досаждать. Это было очень опасное оружие. Особенно для
пехоты. Они летали прямо над головами и из своих пушек поливали нас
огнём. Обычно русские штурмовики делали три захода. Сначала они бросали
бомбы по позициям артиллерии, зениток или блиндажам. Потом пускали
реактивные снаряды, а третьим заходом они разворачивались вдоль траншей и
из пушек убивали в них всё живое. Снаряд, взрывавшийся в траншее, имел
силу осколочной гранаты и давал очень много осколков. Особенно угнетало
то, что сбить русский штурмовик из стрелкового оружия было почти
невозможно, хотя летал он очень низко. О ночных бомбардировщиках
По-2 я слышал. Но сам лично с ними не сталкивался. Они летали по ночам и
очень метко кидали маленькие бомбы и гранаты. Но это было скорее
психологическое оружие, чем эффективное боевое. Но вообще
авиация у русских была, на мой взгляд, достаточно слабой почти до самого
конца 1943 года. Кроме штурмовиков, о которых я уже говорил, мы почти
не видели русских самолётов. Бомбили русские мало и неточно. И в тылу мы
себя чувствовали совершенно спокойно. Учёба В
начале войны учили солдат хорошо. Были специальные учебные полки.
Сильной стороной подготовки было то, что в солдате старались развить
чувство уверенности в себе, разумной инициативы. Но было очень много
бессмысленной муштры. Я считаю, что это минус немецкой военной школы.
Слишком много бессмысленной муштры. Но после 43-го года учить стали всё
хуже. Меньше времени давали на учёбу и меньше ресурсов. И в 44-м году
стали приходить солдаты, которые даже стрелять толком не умели, но зато
хорошо маршировали, потому что патронов на стрельбы почти не давали, а
вот строевые фельдфебели с ними занимались с утра и до вечера. Хуже
стала и подготовка офицеров. Они уже ничего кроме обороны не знали и
кроме как правильно копать окопы ничего не умели. Успевали только
воспитать преданность фюреру и слепое подчинение старшим командирам. Еда. Снабжение Кормили на передовой неплохо. Но во время боёв редко было горячее. В основном ели консервы. Обычно
утром давали кофе, хлеб, масло (если было), колбасу или
консервированную ветчину. В обед - суп, картофель с мясом или салом. На
ужин каша, хлеб, кофе. Но часто некоторых продуктов не было. И вместо
них могли дать печенье или, к примеру, банку сардин. Если часть отводили
в тыл, то питание становилось очень скудным. Почти впроголодь. Питались
все одинаково. И офицеры, и солдаты ели одну и ту же еду. Я не знаю,
как генералы - не видел, но в полку все питались одинаково. Рацион был
общий. Но питаться можно было только у себя в подразделении. Если ты
оказывался по какой-то причине в другой роте или части, то ты не мог
пообедать у них в столовой. Таков был закон. Поэтому при выездах
полагалось получать паёк. А вот у румын было целых четыре кухни. Одна -
для солдат. Другая - для сержантов. Третья - для офицеров. А у каждого
старшего офицера, у полковника и выше - был свой повар, который готовил
ему отдельно. Румынская армия была самая деморализованная. Солдаты
ненавидели своих офицеров. А офицеры презирали своих солдат. Румыны
часто торговали оружием. Так, у наших «чёрных» («хиви») стало появляться
хорошее оружие. Пистолеты и автоматы. Оказалось, что они покупали его
за еду и марки у соседей румын... Об СС Отношение
к СС было неоднозначным. С одной стороны, они были очень стойкими
солдатами. Они были лучше вооружены, лучше экипированы, лучше питались.
Если они стояли рядом, то можно было не бояться за свои фланги. Но с
другой стороны - они несколько свысока относились к вермахту. Кроме
того, их не очень любили из-за крайней жестокости. Они были очень
жестоки к пленным и к мирному населению. И стоять рядом с ними было
неприятно. Там часто убивали людей. Кроме того, это было и опасно.
Русские, зная о жестокости СС к мирному населению и пленным, эсэсовцев в
плен не брали. И во время наступления на этих участках мало кто из
русских разбирался, кто перед тобой - эсэсман или обычный солдат
вермахта. Убивали всех. Поэтому за глаза СС иногда называли
«покойниками». Помню, как в ноябре 1942-го года мы однажды
вечером украли у соседнего полка СС грузовик. Он застрял на дороге, и
его шофёр ушёл за помощью к своим, а мы его вытащили, быстро угнали к
себе и там перекрасили, сменили знаки различия. Они его долго искали, но
не нашли. А для нас это было большое подспорье. Наши офицеры, когда
узнали - очень ругались, но никому ничего не сказали. Грузовиков тогда
оставалось совсем мало, а передвигались мы в основном пешком. И это тоже показатель отношения. У своих (вермахта) наши бы никогда не украли. Но эсэсовцев недолюбливали. Солдат и офицер В
вермахте всегда была большая дистанция между солдатом и офицером. Они
никогда не были с нами одним целым. Несмотря на то, что пропаганда
говорила о нашем единстве. Подчёркивалось, что мы все «камрады», но даже
взводный лейтенант был от нас очень далёк. Между ним и нами стояли ещё
фельдфебели, которые всячески поддерживали дистанцию между нами и ими,
фельдфебелями. И уж только за ними были офицеры. Офицеры обычно с нами,
солдатами, общались очень мало. В основном же всё общение с офицером шло
через фельдфебеля. Офицер мог, конечно, спросить что-то у тебя или дать
тебе какое-то поручение напрямую, но повторюсь - это было редко. Всё
делалось через фельдфебелей. Они были офицеры, мы были солдаты, и
дистанция между нами была очень большой. Ещё большей эта
дистанция была между нами и высшим командованием. Мы для них были просто
пушечным мясом. Никто с нами не считался и о нас не думал. Помню, в
июле 43-го под Таганрогом я стоял на посту около дома, где был штаб
полка, и в открытое окно услышал доклад нашего командира полка какому-то
генералу, который приехал в наш штаб. Оказывается, генерал должен был
организовать штурмовую атаку нашего полка на железнодорожную станцию,
которую заняли русские и превратили в мощный опорный пункт. И после
доклада о замысле атаки наш командир сказал, что планируемые потери
могут достигнуть тысячи человек убитыми и ранеными, и это почти 50%
численного состава полка. Видимо, командир хотел этим показать
бессмысленность такой атаки. Но генерал сказал: - Хорошо!
Готовьтесь к атаке. Фюрер требует от нас решительных действий во имя
Германии. И эта тысяча солдат погибнет за фюрера и Фатерлянд! И
тогда я понял, что мы для этих генералов никто! Мне стало так страшно,
что это сейчас невозможно передать. Наступление должно было начаться
через два дня. Об этом я услышал в окно и решил, что должен любой ценой
спастись. Ведь тысяча убитых и раненых это почти все боевые
подразделения. То есть шансов уцелеть в этой атаке у меня почти не было.
И на следующий день, когда меня поставили в передовой наблюдательный
дозор, который был выдвинут перед нашими позициями в сторону русских, я
задержался, когда пришёл приказ отходить. А потом, как только начался
обстрел, выстрелил себе в ногу через буханку хлеба (при этом не
возникает порохового ожога кожи и одежды) так, чтобы пуля сломала кость,
но прошла навылет. Потом я пополз к позициям артиллеристов, которые
стояли рядом с нами. Они в ранениях понимали мало. Я им сказал, что меня
подстрелил русский пулемётчик. Там меня перевязали, напоили кофе, дали
сигарету и на машине отправили в тыл. Я очень боялся, что в госпитале
врач найдёт в ране хлебные крошки, но мне повезло. Никто ничего не
заметил. Когда через пять месяцев в январе 1944-го года я вернулся в
свою роту, то узнал, что в той атаке полк потерял девятьсот человек
убитыми и ранеными, но станцию так и не взял... Вот так к нам
относились генералы! Поэтому когда меня спрашивают, как я отношусь к
немецким генералам, кого из них ценю как немецкого полководца, я всегда
отвечаю, что, наверное, они были хорошими стратегами, но уважать их мне
совершенно не за что. В итоге они уложили в землю семь миллионов
немецких солдат, проиграли войну, а теперь пишут мемуары о том, как
здорово воевали и как славно побеждали. Самый трудный бой После
ранения меня перекинули в Севастополь, когда русские уже отрезали Крым.
Мы летели из Одессы на транспортных самолётах большой группой и прямо у
нас на глазах русские истребители сбили два самолёта битком набитых
солдатами. Это было ужасно! Один самолёт упал в степи и взорвался, а
другой упал в море и мгновенно исчез в волнах. Мы сидели и бессильно
ждали - кто следующий. Но нам повезло - истребители улетели. Может быть,
у них кончалось горючее или закончились патроны. В Крыму я отвоевал
четыре месяца. И там под Севастополем был самый трудный в моей
жизни бой. Это было в первых числах мая, когда оборона на Сапун-горе уже
была прорвана и русские приближались к Севастополю. Остатки
нашей роты - примерно тридцать человек - послали через небольшую гору,
чтобы мы вышли атакующему нас русскому подразделению во фланг. Нам
сказали, что на этой горе никого нет. Мы шли по каменному дну сухого
ручья и неожиданно оказались в огненном мешке. По нам стреляли со всех
сторон. Мы залегли среди камней и начали отстреливаться, но русские были
среди зелени - их не было видно, а мы были, как на ладони, и нас одного
за другим убивали. Я не помню, как, отстреливаясь из винтовки, я смог
выползти из-под огня. В меня попало несколько осколков от гранат.
Особенно досталось ногам. Потом я долго лежал между камней и слышал, как
вокруг ходят русские. Когда они ушли, я осмотрел себя и понял, что
скоро истеку кровью. В живых, судя по всему, я остался один. Очень много
было крови, а у меня ни бинта, ничего! И тут я вспомнил, что в кармане
френча лежат презервативы. Их нам выдали по прилёту вместе с другим
имуществом. И тогда я из них сделал жгуты, потом разорвал рубаху и из
неё сделал тампоны на раны и перетянул их жгутами, а потом, опираясь на
винтовку и сломанный сук, стал выбираться. Вечером я выполз к своим В
Севастополе уже полным ходом шла эвакуация из города, русские с одного
края вошли в город, и власти в нём не было никакой. Каждый был сам за
себя. Я никогда не забуду картину, как нас на машине везли по
городу и машина сломалась. Шофёр взялся её чинить, а мы смотрели через
борт вокруг себя. Прямо перед нами на площади несколько офицеров
танцевали с какими-то женщинами, одетыми цыганками. У всех в руках были
бутылки вина. Было какое-то нереальное чувство. Они танцевали, как
сумасшедшие. Это был пир во время чумы. Меня эвакуировали с
Херсонеса вечером 10-го мая уже после того, как пал Севастополь. Я не
могу вам передать, что творилось на этой узкой полоске земли. Это был
ад! Люди плакали, молились, стрелялись, сходили с ума, насмерть дрались
за место в шлюпках. Когда я прочитал мемуары какого-то генерала-болтуна,
который рассказывал о том, что с Херсонеса мы уходили в полном порядке и
дисциплине и что из Севастополя были эвакуированы почти все части 17-й
армии, мне хотелось смеяться. Из всей моей роты в Констанце я оказался
один! А из нашего полка оттуда вырвалось меньше ста человек!** Вся моя
дивизия легла в Севастополе. Это факт! Мне повезло потому, что
мы, раненые, лежали на понтоне, прямо к которому подошла одна из
последних самоходных барж, и нас первыми загрузили на неё. Нас
везли на барже в Констанцу. Всю дорогу нас бомбили и обстреливали
русские самолёты. Это был ужас. Нашу баржу не потопили, но убитых и
раненых было очень много. Вся баржа была в дырках. Чтобы не утонуть, мы
выбросили за борт всё оружие, амуницию, потом всех убитых, и всё равно,
когда мы пришли в Констанцу, то в трюмах мы стояли в воде по самое
горло, а лежачие раненые все утонули. Если бы нам пришлось идти ещё
километров 20, мы бы точно пошли ко дну! Я был очень плох. Все раны
воспались от морской воды. В госпитале врач мне сказал, что большинство
барж было наполовину забито мертвецами. И что нам, живым, очень повезло. Там, в Констанце, меня положили в госпиталь, и на войну я уже больше не попал. Гельмут КЛАУСМАН,
111-я пехотная дивизия.
С форума газеты «Завтра» *Видимо, ошибка переводчика - в немецкой пехотной роте было 12 пулеметов, 4 пулемета было в пехотном взводе. **По штатам, введенным с 1943-го года, в немецкой пехотной роте было более 200 человек, а в полку - более 2 тысяч. | |




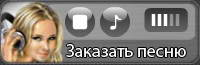
 ю
ю





